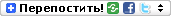Социальный эскапизм: прочь от журналистики
Жесткие руки с растрескавшейся вокруг ногтей кожей, которая от небывалого для здешних лесов грибного урожая окрасилась в черный и нескоро отмоется. Лишние 8 кг живого веса. Ноги, от ношения свободной обуви начавшиеся «растаптываться» (теперь понятно, почему у крестьянок босоногих вместо ступней — огромные лапти). Старая одежда — чтобы не жаль рвать или марать. Пальто… мои винтажные пальто с золочеными пуговицами, сменились дутым утепленным жилетом с большими карманами, сумочки — огромным рюкзаком. В город, в Петербург, приезжаешь в кроссовках, джинсах, толстовке.
Так теперь живешь. Это — плата за свободу. А может — и есть сама свобода?
Живет так, конечно, не кто-нибудь. Живу — я. В деревне. С мая месяца не ношу пальто и дамских сумочек. Не пользуюсь косметикой, не крашу волосы, не ношу контактных линз.
Я живу в деревне почти полгода. Свой отъезд я назвала социальным эскапизмом, или — для тех, кто попроще — внутренней эмиграцией. Однако только сейчас, проверив и выдержав свои мотивы, я готова сама себе рассказать, зачем уехала. Если кратко, то уехала — за свободой. Не за пошлой свободой гулять по полям и смотреть в бескрайнее пустое небо, а просто — свободой.

Причина побега первая, но не главная - упадок журналистики.
Я работала на «Эхе» в Петербурге. Сайт, начавший было выходить на уровень посещаемости, сопоставимый с Фонтанкой.ру, газета «Эхо» — качественный проект, поднятый нами с нуля, выращенный от макета верстки и похороненный вместе с нашим уходом. В конце марта вся пишущая редакция местного «Эха» ушла. Кто-то начал свой проект, кто-то, продержавшись немного на плаву, сдался и работает на конформистском радио.
А я уехала в деревню. Я просто не знала, где и как еще смогу жить. С журналистикой, серьезной, официальной, нужно было кончать. Есть люди, готовые идти на компромисс, отрезать от себя каждый день по кусочку и все равно называться профессионалами. Я ничего отрезать не хотела, я намеревалась выжить целой и здоровой. Даже на «Эхе» это стало невозможным: от нас ждали побасенок времен очаковских и покоренья Крыма. Юлить, подлизываться я не могла. Заниматься четвертованной журналистикой — тоже. Есть с руки не научилась.
Первая, но не главная причина моего ухода — смерть журналистики. Ее нет, есть только фарс. Вся информация, ее источники, зацензурированы, причем — на законодательном уровне. Работа с госорганами и бизнесом свелась к налаживанию личных связей. По закону, любое учреждение, от ДЭЗа до полиции, имеет право месяц (!) не отвечать на твои вопросы. Сбили 10 человек? По вине ДЭЗа рухнул дом, убив три семьи? Хочешь написать об этом сегодня же? Ну уж нет — жди месяц! Работаешь в электронном СМИ, твоя популярность, твои доходы зависят от оперативности? Забудь и составляй в пресс-службу мирового, блин, судьи на специальном завизированном бланке письменный запрос, жди, пока ответят.
В России не только де-факто, но и де-юре нет права на информацию. Большинство СМИ получают оперативные комментарии только благодаря личным заискивающим отношениям с пресс-службами и бизнесом. Например, в редакции радио «Эхо Петербурга» очень боятся ссориться с пресс-службой правительства Ленобласти, пресс-секретарем петербургской полиции Вячеславом Степченко, потому что после ссоры потеряют шанс хоть на какую-то реакцию со стороны этих «учреждений». А ссора — это неугодный материал, выход в эфир неудобной информации. Следовательно, нужно угождать, заискивать. Выбирать, написать про аварию с 10-ю погибшими и поссориться со Степченко или — остаться с товарищем на дружеской ноге, а погибшие… ну да Господь с ними, с погибшими.
Некоторые журналисты — их мало, как мало любых рисковых чудаков — работают на понтах. Я работала с органами на понтах. Обещают ответить на запрос в течение трех дней, а информация нужна сейчас? Ок, отвечаешь: «Что ж, я буду вынуждена указать, что правоохранители не комментируют слухи о 10-ти погибших». Угрожают судом, расправой? Плевать: комментарий нужен тебе сегодня, если его нет, значит — отказались. Это — правда жизни, а своими преступными законами пускай на том свете прикрываются. Здесь главное, чтобы верили. Они должны знать, что ты их не боишься и напишешь.
Меня боялись. Примерно до весны. Теперь уже не боится никто и никого. После перемен, произошедших с населением за последний год, никто его, населения, уже не боится.
На твои запросы не отвечают. Тебя игнорируют. И они точно знают, что ты не сможешь опубликовать против них ни строчки: даже если ты не боишься Степченко, аппарат губернатора или Роспотребнадзор, их боится собственник бизнеса. Ни одно петербургское СМИ, чьи владельцы сидят здесь, не идет на конфликт с госучреждениями. Ни одно! Работать на понтах больше нельзя. Это могут себе позволить «Коммерсантъ», «Новая» и «Ведомости». Но почти не позволяют. Радио «Эхо Петербурга» понтов позволить себе не может. Вся политика местной редакции свелась к заискиванию. Для замглавного редактора радиостанции Натальи Костициной страшнее нет беды, чем потерять расположение Вячеслава Степченко или Вадима Тюльпанова. Повторяю без преувеличения — страшнее беды нет.
Так как все нормы этики, все профессиональные стандарты, все законы о СМИ в России отброшены (так и не пригодились), то за тебя всегда решает собственник. Каждую минуту ты делаешь выбор не между правдой и ложью, а между бедностью и сытостью, причем не народной, а твоей личной, потому что за каждую правду тебя могут уволить. В наши дни не редактор, а собственник решает, дружить изданию со Степченко или нет, хвалить Крым или ругать. Чем больше рисков, правовых и финансовых, падает на издание, тем чаще в редакции распоряжается собственник. У редакторов не осталось права на самостоятельность, права на профессию. Решение о выводе в эфир, в печать той или иной информации сегодня принимает собственник, но отвечает все равно редактор. Идите в ***с такими правилами! Тем более, что и к информации доступа у журналистов не осталось. Можно с очень большой уверенностью сказать, что почти вся информация о деятельности госорганов в местных СМИ публикуется с согласия сначала собственника, а потом — самих органов. Если директор считает, что ему навредит само упоминание, хоть и не для печати, аварии с 10-ю погибшими, ты даже не сможешь позвонить Степченко. А если рискнешь и позвонишь, он все равно тебе не ответит, потому что знает — решение в редакции принимаешь не ты.
Мне отвратительно видеть Алексея Венедиктова, который с каждым годом все сильнее жмет на одну лишь точку, напирает на тот факт, что свобода слова в России зависит от его, венедиктовской, печени. Что журналисты «Эха» имеют доступ к информации благодаря знакомствам главного редактора и его личным теплым отношениям с чиновниками, ньюсмейкерами.
Как бы мне хотелось, чтобы песенку эту закончили. Чтобы сказали уже — нет в России журналистики, а печень Венедиктова — это нонсенс. Это феномен, за который иностранные журналисты над коррами «Эха» смеются, как мы смеемся над Первым каналом. Ок, на «Эхе» борются, они делают СМИ. По удачному стечению обстоятельств, именно их назначили быть фасадной картинкой для иностранного потребителя: заграница знает, что в России есть «Эхо». Для этого разве держится редакция? Для этого Венедиктов губит свою печень? Сдается мне, он просто «хочет сохранить людей». Мотив понятный и нередкий. Его редакция хочет на банкеты, хочет успевать брать шестые Айфоны. Она хочет жить, пить и есть - тут все ясно. Ах, как часто я слышала от провинциальных медиаменеджеров, подписывающих с администрацией очередной договор об информсопровождении: «Что я могу поделать, у меня же люди?»
Песенка старая, мотив известен. У Венедиктова на него положены слова про печень. Очень мило. Очень трогательно. Очень жаль печень… Но это не журналистика. В такую журналистику играйте сами. Верите, что можно 10 раз смолчать ради права один раз открыть рот? Сидите и молчите. Без меня. Меня попросили смолчать один раз — я сразу ушла. А остальные — ничего… сидят и молчат. Причем, не только из-за цензуры… журналисту и помимо цензуры есть, чего бояться.
Страну захлестнули коррупция, бесправие. Нет вообще никаких гарантий законности. Вернулись серые зарплаты, задержки гонораров, хамство. Еще года три назад сложно было себе представить, что в крупном и даже якобы независимом СМИ возможны проволочки с деньгами, попытки заставить журналистов работать за еду. Причем, чем крупнее СМИ, тем бесправней его журналисты. Нет никакой ответственности, нет никакой гарантии, что ты не вылетишь из редакции просто потому, что у собственников дурное настроение. Журналист сегодня, как и любой другой человек, на работе ни от чего не защищен: ни от самодурства начальства, ни от жадности владельцев бизнеса. Нигде не соблюдаются никакие трудовые нормы.
Но что ж… Наглость, рвачество со стороны собственников бизнеса, руководства — это повальная проблема сегодняшней России. Мне сдается, что со времен Ельцина и шахтерских бунтов у нас не было такого оскорбительного для людей беззакония и бесправия. Трудовой кодекс? Гражданский? Уголовный? Все херня!
Я не хочу болтаться в этом дерьме. Я ухожу сразу же, как только очередная моська повышает на меня голос. Как бы хотелось мне уметь терпеть. Закрывать глаза на распальцованное быдло, на рвачей! Как бы хотелось уметь давить, выжимать, обманывать подчиненных, загонять до полусмерти голодных корреспондентов… Как хочется стать подхалимкой с носорожьей шкурой: ее матом — а она: «Будет сделано!», ей в зубы — а она знай свое: «Здрасте, зрасте!» и — ручку тянет к начальнику, пополам складывается услужливо, уши от улыбки трескаются. Работать по 16 часов, молчаливо терпеть, врать, закрывать глаза на оскорбление, на четвереньках перед начальством ползать и отыгрываться на подчиненных. Вывернуться, выслужиться, на ипотеку заработать, внедорожник купить в кредит, гнать в эфир джинсу, в газеты — чернуху, получать тысячи долларов в конверте и ходить на цырлах, копя на новую квартирку…
Я тоже так хочу, но — не могу. Не могу, потому как родилась с абсолютно ненужным в наше время чувством достоинства и уважением к достоинству других. Я даже собаку отругать не могу! Не могу ей кусок под нос кинуть или пренебрежительно на нее крикнуть — я, блин, не имею сил преступить даже через ее, собачье, достоинство.
Уважение к себе, к Человеку в себе — оно как резус-фактор, его не выбросишь, не затопчешь, не продашь… История русской интеллигенции показывает, что чувство это можно… пропить. И все, больше с ним ничего сделать нельзя. Пить я не умею, а, стало быть, среди людей без уважения к чужому достоинству мне не прожить. Ни на «Эхе», ни в каком другом обетованном месте я работать не хочу, потому что мест таких, где человека не топчут, у нас не осталось. Все прогнило, и государство, и общество. Законов нет, берега потеряли… Гуляй, рванина, пока Крым наш!
Я не хочу работать в этой стране. Не хочу! Нет таких ценностей, ради которых я готова унижать и унижаться. Новая машина? Квартира в центре Петербурга? Путешествия бизнес-классом? Покупки в «Стокманне»? На это в Петербурге можно заработать только на хорошей должности, а она сейчас почти без исключения предполагает скотство. Давись и дави других!
Я не хочу. А так как, повторяю, почти нет сейчас мест, где можно работать и зарабатывать, не оскорбляя себя и подчиненных, я из системы выхожу. Уезжаю. В деревню. Кормить собаку с руки, гладить кошку, читать книжки. Смотреть на себя перед сном в зеркало и видеть Человека.
***
Продолжение следует…
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 3965 просмотров
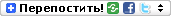
Социальный эскапизм: не хочу работать вообще
Итак, я — журналист. Весной я уволилась из редакции петербургского «Эха» и уехала в деревню. Теперь объясняю, почему. Сегодня расскажу о протестном выходе из каких-либо трудовых отношений. Каких-либо.
В деревне тебя никто не оскорбляет. В деревне никто не претендует на тебя как на раба. Мир наш современный возвращается в рабство. Навстречу либеральным ценностям, замахнувшейся на весь Земной шар демократии шагает рабство. Классическое, кондовое. Рабство, в котором ты себе не принадлежишь, не имеешь права на свое время.
Знаете, я не либерал. В вопросах социально-экономических я, скорее, леворадикальных взглядов придерживаюсь. И я не могу смотреть на то, как много люди вынуждены работать.

Они работают едва ли не с утра, как только просыпаются и заглядывают в экран телефона, компьютера… Работают по 10-12-15 часов. Это становится нормой. В России, особенно в сферах якобы интеллектуально- и креативноемких стало дурным тоном не выходить на связь с коллегами в выходные. Вы заметили, когда начали переживать, что ночью осталось непрочитанным письмо от директора? Когда страну захлестнула волна корпоративного менеджмента, который вдруг внушил, будто стыдно не думать о благе компании даже перед сном? Стыдно не выкладываться, стыдно иметь свои интересы, стыдно не ходить на корпоративы, стыдно обедать в любимом кафе, а не на бизнес-ланче в компании, стыдно выходные провести с семьей, а не на выездном тренинге, совмещенном с пейнтболом.
В моей френд-ленте есть люди, которые все свои будни проводят за бизнес-завтраками, бизнес-ланчами и бизнес-обедами. Работают, не отрываясь от еды. Но этих хотя бы кормят — у многих же на обед нет времени совершенно. В редакции «Эха», откуда я ушла, обеденный перерыв не оплачивался, но (!) люди все равно перестали ходить в кафе, столовые и работали даром. Перестали, потому что нет времени, потому что неудобно перед зашивающимися коллегами, потому что час обеда — это роскошь, за которую стыдно. В итоге, все бегали за едой в магазин, ели на рабочем месте, без отрыва от новостей. Вы замечаете, как едите на работе? Что едите?
Знаете, я боюсь, что большинство моих знакомых, моих бывших коллег для того, чтобы прожить в своем статусе месяц, должны работать ровно месяц. Почти не имея отдыха и свободного времени, они живут от зарплаты до зарплаты. Какой-нибудь медиаменеджер не самого низкого порядка в месяц зарабатывает ровно столько, чтобы заплатить за престижную квартиру, за ланчи, кино, машину, отпуск. Никаких накоплений у него нет. Времени остановиться и подумать нет. Права на отпуск больше двух недель нет.
А вы заметили, как мягко, нежно, словно нож в масло, проник в наш язык рабский жаргон? В Советское время жизнь была и впрямь скотская, но вот рабский дух коммунисты из народа вышибали день за днем. Хотя бы на вербальном уровне. Советские люди не называли отпуск или выходной отдыхом — они именовали положенные им нормированные часы, дни и недели в соответствии с установившимися правилами, не примешивая к ним мотивы усталости, изможденности. Человек, который летит в отпуск на свои отпускные, прям и беззастенчив: он состоит в трудовых отношениях с неким лицом и берет у лица свое, законное. Человек, который летит на отдых, убегает от тяжелого труда, недосыпов, недоедов.
Не употребляли советские люди и сервильное, рабское слово «место». Они меняли не место, а работу (или место работы — компромисс для особенно раболепных), потому что были, худо-бедно, работниками, а не слугами. У них был начальник, а не хозяин, вернувшийся к нам после перестройки и перевоплотившийся сначала во «владельца», а потом — в «руководителя». Руководитель — низкий эвфемизм, полюбившийся рабам за то, как куртуазно прикрывает суть взаимоотношений. Сам по себе он, конечно, лучше начальника, но вот узусная практика «руководителя» иная. «В обязанности соискателя места секретаря-референта входит интим с руководителем, два раза в неделю, без дополнительной платы». Хуже только работодатель. Сухое, бестелесное нечто, которое дает главное — работу. Работодатель — это спаситель, благодетель, он дает деньги и не дает умереть на улице с голоду. Чувствует дурноту? Нет? Ну что ж, мне вас жаль — вы рабы.
Я не хочу так работать. Я люблю себя, люблю одиночество, покой. Я не готова продаваться вся, с потрохами, с нутром. На моей последней работы я была вынуждена проводить почти все свое время, включая завтраки и ужин. Моя кошка забывала, как я выгляжу. И на всей этой радости я зарабатывала в месяц ровно столько, чтобы свободно, без долгов и без лишений, прожить в Петербурге месяц. Причем для компании я приносила много денег. Очень много. Моим левацким чаяниям это претит. Мне омерзительно представить себя в роли быдла (термин еще марксистский, между прочим), которое не оценивает стоимость произведенного им продукта.
Я не быдло, поэтому я отказываюсь работать в сегодняшней России: страна эта переступила грани допустимой несправедливости. Работать в России почти нигде нельзя — можно лишь сдавать себя в эксплуатацию. Я не хочу, у меня холод разливается в животе, когда я представляю себя нанимающейся к эксплуататору.
В общем, я не хочу рвать нервы, терять здоровье и топтать собственное достоинство ради того, чтобы приносить кому-либо прибыль. В этой части своей мотивации я совершаю классический леваый демарш.
Примечательно, кстати, что и в России, и в мире очень (очень!) много людей, презрительно отзывающихся о современном офисном рабстве. Тут я неоригинальна, да. Вот только почти все эти люди единственным и самым достойным выходом из рабства видят… открытие собственного бизнеса и найм рабов. Это — предел счастья, это мечта. Считаешь себя выше наемной работы? Найми рабов сам!
Я, однако, не хочу заниматься бизнесом. Не хотела никогда и не хочу сейчас. Здесь — второй конфликт с современной трудовой доктриной, которая как бы намеком утверждает, что только олухи не открывают собственный бизнес. Олухи олухами, а если я не хочу? Мне неинтересно. Да и где бизнес, в России? Да ладно?!
Ах, да, вы скажете, что можно работать самостоятельно. Свое СМИ, публицистика. Нет, друзья. Свое СМИ сегодня открывают только на государственные деньги или — ради хобби. Опасного, увлекательного. Как загул по африканским борделям без презервативов.
И публицистикой сегодня скромные копейки можно заработать только с идейно правильными текстами. Если ты — не экономист, историк, политолог экспертного уровня, а всего лишь свободный журналист и публицист, ты должен принять окраску. Либеральную, националистическую, левую… какую угодно, но ты должен целиком и полностью укладываться в ту или иную идейную линию, потому что немногочисленные свободные издания у нас оказались все поголовно идейно окрашенные. Таких, как я, неохотно публикуют. «Вы не либерал!», — говорят мне в одной редакции. «Да вы не националист!», — повторяют в другой, «Вы не патриот!», — заявляют в третьей. Журналистика мнения, публицистика в России скончалась, у нас осталась только цеховая пресса. Можно заработать немного денег, пописывая в какой-нибудь националистический или партийный ресурс. Для этого даже необязательно хорошо писать, ведь покупают сегодня не тексты, а позицию.
А у меня позиция сложная. Подгонять ее под лекало цеховых СМИ я не хочу. Я ушла из журналистики, чтобы не врать в штате, зачем я стану оскоплять себя внештатно?
Конечно, можно переключиться на легкую журналистику. Рецензии, кинообзоры, освещение проблемы полов или рассказы о жизни в деревне… Какие-никакие копейки это принесет, но я не хочу… мне неинтересно. Вернее, до недавнего времени мне было неинтересно. Сейчас я даже как будто захотела поработать (сняли урожай — появилось время), но мне лень.
Я довольна. Я счастлива и свободна. То есть, я ощущаю себя счастливой и свободной от насилия, под которое попадать сегодня почти каждый. Работать по 15 часов — это насилие. Елозить перед начальством — насилие. Терпеть хамство какого-нибудь работника ДЭЗа — насилие. Насилие — не высыпаться, не иметь времени на себя. Насилие — придумывать анекдоты про 20-часовые авралы, пятницу-тяпницу и сволочь-директора, насилие — ждать этой самой пятницы, чтобы сплавить детей к бабушкам, сбегать за пивом, водкой, нажраться, напиться, забыться, забыть, что ты — насилуемый и мало чем, в общем-то, отличаешься от раба. Насилие — называть отпуск на пляже отдыхом. Это как нужно уставать от жизни, чтобы две недели, раз в полгода проведенные на жаре и в пьяном угаре, показались отдыхом? Да человек перестает помнить о своем достоинстве, если отдых для него заключается в неограниченном сне и беспробудном пьянстве! Если так, значит, все — человек изнасилован.
Кстати, о сне… После увольнения я наконец-то высыпаюсь каждый день. И я не вижу в этом ничего возмутительного. Мне крайне удивительно, как быстро современные люди усвоили новые этикетные представления о жизни, согласно которым нежелание и неготовность работать по 15 часов в сутки вдруг стали называться зазорными. Кальвинисткая доктрина о трудолюбии вдруг превратилась в требования работать на износ.
Не все люди хотят много работать, причем далеко не все из них — лентяи.
Внимательное изучение всемирной истории покажет вам, что человечество со времен первобытно-общинного строя прямым ходом движется к индивидуализации жизни, к разобщению пространства и собственности. Человек XXI века имеет эволюционную потребность в одиночестве и собственном времени, но взамен его толкают в рабочий аврал и коллектив.
Человек не должен работать много. Он не должен умирать на работе. Человеку нужно личное время, одиночество, спокойствие. Я считаю, что уровень вовлеченности людей в работу сегодня — крайне высокий и он уже породил волну противодействия. Дауншифтеры, эмигранты, живущие в лачужках в Тайланде на $5 в день — это люди, которые остро почувствовали дальнейшую невозможность жить, даже не жить уже, а существовать функциональной трудовой единицей в тесной, полной насилия над природой картине современного мира.
Я уверена, что человечество, если его не разрушит глобальная катастрофа, не будет жить в режиме тотального аврала и повальной занятости. При существующем нагнетании культа трудолюбия и эскалации потребительских инстинктов человечество не выживет. Рано или поздно настанет момент, когда ему, человечеству, придется отдохнуть… или — сдохнуть.
Ах, да, на что же жить? С самой весны меня преследуют вопросами, где брать деньги на резкие и красивые шаги. Нигде! Жить скромно.
Конечно, я немного лукавлю. У меня есть некоторая недвижимость + накопления. В сумме доход они дают по вашим меркам мизерный, но... с учетом огорода на жизнь и даже небольшие путешествия хватает. Я даже сказала бы, что денег у меня остается больше, чем в среднем у городской семьи, после выплат по ипотеке, автокредиту, расходов на машину, питание, одежду.
В общем, если не гоняться за шестыми Айфонами, то жить можно. А если еще коз завести (молоко, творог, сливки, сыр), куриц (яйца), то можно и вовсе не горевать... Если, повторяю, не впадать в потребительский раж. У меня с потребительством все в порядке - я меняю телефоны по мере их физической порче, моему мобильнику 2,5 года.
О потребительстве и бегстве от потребителей - читайте в одной из следующих серий моего увлекательного кино...
Продолжение следует....
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 965 просмотров
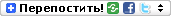
Социальный эскапизм: не хочу жить среди потребителей
Общество потребления… Термин этот, чаще всего, кстати, вылетающий из уст аккуратно упакованных в highstreet-бренды медиаменеджеров, уже набил оскомину. Когда в современных медиа говорят об усталости от потребления, вероятнее всего речь идет о каком-нибудь лихом парнише, который решился купить HTC вместо iPhone. Каждый, в общем, кому не лень, говорит теперь об антиконсьюмеризме. И, все же, не побоюсь осторожно заявить — и я, и я устала от общества потребления. Только, в отличие от аккуратных мальчиков с Айпадами, я, сказав это, ухожу. Уезжаю в деревню.
Об антипотреблении я задумалась, еще когда вы все крепко спали в своих доикеевских кроватках. Лет с 12 я одеваюсь в секонд-хендах. Сначала стала туда захаживать в поисках качественных вещей, которых в моем детстве в провинции найти было сложно. Затем поняла, что под моей любовью к барахолкам есть идейная основа. Я не хочу стимулировать своим спросом развитие промышленности. В России над этими моими словами и сейчас смеются, а лет 15 назад — вовсе гоготали. Предлагали мне сопоставить габариты: мои и легкой промышленности.
Зато когда я уехала в Европу, то поняла, как много таких людей. Людей, которые сознательно выбирают recycling как норму жизни. Людей, которые от одежды до автомобилей и спортинвентаря покупают б/у. И если у нас барахолки — капля в море, то в той же Британии взаимооборот б/у товаров уже ощутимо снижает спрос на новые.
Барахолки — это была моя первая попытка противостоять навязыванию потребления. Вторая случилась неожиданно: я много путешествовала, несколько раз меняла и город, и страну проживания. На случай переезда у меня была большая сумка на колесах, которая вмещала ровно 32 кг хорошо упакованных вещей (столько позволяли бесплатно провозить в багаже на British Airways). Так вот, каждый раз, когда у меня образовывалось вещей больше, чем на
эту сумку, я волновалась. Мне было неуютно, несвободно, тревожно. Сумка научила меня, во-первых, не привязываться к вещам, ведь в любой момент их придется выбросить, а, во-вторых, не покупать много. Покупать очень хотелось, но я справилась.
Позже в моей жизнь был период, когда я покупала много косметики. Слишком много. После отъезда в деревню у меня остался большой пакет люксовой декоративной косметики, куча дорогих кремов, бесчисленные баночки, бутылочки: гели для душа, скрабы, обертывания, шесть видов крема для тел, два — для ног, три — для рук. Все выброшено. Я потратила много времени на изучение косметики и наконец удостоверилась, что эффекта от нее мало. Я перестала пользоваться косметикой — вместо нее я больше сплю и пью чистую воду. О том, как обхожусь без кремов и шампуня, расскажу в одной из следующих частей, посвященной экологичности жизни. На самом деле экология — среды, питания, быта — стала самым, пожалуй, главным мотивом отъезда. Но напишу я о ней в конце. Это будет заметка о том, за чем я уехала в деревню, пока же я пишу о том, от чего уехала.
А уехала я от повсеместных картин оскотинивания человека, например, превратившегося за какие-то пару-тройку поколений в машину для потребления. Я ухожу от навязывания ему ненужного, от циничного маркетинга, от невозможности отказаться от рекламы. Утром просыпаешься — в телефоне смс с предложением кредита. В метро — кричащая бесноватая реклама, в автобусах — реклама. Даже в больнице — реклама. Кто-то ее не замечает, я же страдаю от рекламы, я кожей ощущаю, насколько она преступна по отношению к человеку. К рядовому человеку, любому из массы, тем более — из общества. Реклама, современный маркетинг не оставляют этому человеку права на самостоятельность, на выбор, на свободу. Да, у него слабая воля и интеллект стремится к среднему, причем — стремится снизу вверх, но это не повод пускать его под жернова потребления. Вытрясать из него, вместе с деньгами на новый холодильник, остатки воли и человеческого достоинства.
Публичная общественность недооценивает значение рекламы. В приличных кругах тех самых мальчиков с Айпадами рекламу принято не замечать — эта норма возведена до уровня хорошего тона. И зря! Реклама говорит нам (уже кричит) о болезни общества, о насилии над человеком, которому навязывание моды, образа жизни не оставляет никаких прав на свой выбор. Когда после Второй мировой войны человек окреп и отъелся, ему внушили необходимость приобретать лишнее. Был человек, сытый, благополучный, были его деньги, но никто решительно не знал, как заставить этого человека купить ненужное. Узнали, заставили! Причем, заставили так, что человек теперь ради возможности покупать лишнее должен больше работать. Все больше и больше — иначе он не успеет обновить модель смартфона и пароварки.
Homo consumens работает на износ, выжать из него большее вряд ли получится. У него, благополучного зарабатывающего и зарабатывающегося, есть все: пять пар обуви на каждый сезон, телевизор в полстены, самый новый Айфон, специальная петелька для выдавливания черных точек из распаренных пор, носки с подогревом и два выходных костюма для любимой кошки. Радикально больше человек потреблять не станет, так как не сможет сильно больше работать. Чтобы вовлечь его, затянуть окончательно в петлю желаний, маркетинг переходит на новый уровень, где человек уже — не потребитель, а товар. Тысячи развлекательных сайтов со статьями, типа «10 фактов о репе, которые повергнут вас в ужас», «Девушка нашла на дороге пакет, его содержимое изменило всю ее жизнь», «20 советов Асе Клячиной, как любить да выйти замуж». Обычный человек проводит часы, потребляя низкопробную развлекательную, псевдонаучную виртуальную макулатуру, столько же времени он тратит на соцсети.
В последние годы человек стал товаром. Вернее, его свободное время, предназначенное для семьи, чтения, обучения. Почти весь бизнес в интернете рассчитывает на ваше свободное время. Да что интернет — даже водитель автобуса, вешающий в салоне рекламу, тоже рассчитывает удачно продать ваше время.
Я знаю, что негодовать по поводу рекламы — старомодно. Я догадываюсь, что так — везде (хотя в развитых странах маркетинг жестко регламентирован, а люди ограждены от вредоносной рекламы). Да, и в Лондоне, и в Мельбурне, и в польском городке Злотов человека насилуют, прессуют, пакуют, делая из него образцового потребителя. Я знаю, я не удивляюсь. Хотя, справедливости ради надо сказать, что там рынок рекламы жестко регулируется. В развитом, особенно англо-саксонском, мире за человеком признается право на защиту от недобросовестной рекламы. 25-й кадр, фуд-стилизм, вранье, использование образов детей и стариков — это недобросовестно, это — нечеловечно. Там давно нет рекламы с участием экспертов 20-ти независимых ассоциаций стоматологов, нет немаркированной рекламы в блогах, нет рекламы навязывания («Все крутые парни едят наши батончики, а некрутые носят черепаховые очки и берут на ланч салат»), рекламы фрустрирующей («У тебя одной в классе нет Макбука — ты никогда, слышишь, никогда не выбьешься в люди»), рекламы, давящей на нечеловеческие, низкие инстинкты. У нас все это можно, потому наша толпа потребителей все больше напоминает скот. А ведь люди имеют право на защиту государством от оскотинивания — они государству отстегивают немало денег. Но в России государство — агрессор, и в конфликте с населением оно всегда поддерживает других агрессоров.
Я очень остро ощущаю эту агрессию и несправедливую расстановку сил между производителями и потребителями. Это — тоже своего рода насилие, самое настоящее. Те, кто посильней (таких в любом обществе единицы), дают отпор, остальные ложатся под каток и покупают, покупают, покупают. В самой тяге к приобретательству ничего страшного нет — страшен лишь сам человек, пустившийся во все тяжкие. Страшен и неинтересен. До оскомины на зубах.
Если уж, то меня лично эти формы капиталистической агрессии не тревожат. Но я не хочу жить среди потребителей и рабов новой формации. Я не хочу делить с ними парадную, слышать их голоса из соседнего кабинета, не хочу ездить с ними в метро и воспитывать детей вместе с их детьми. Не хочу! Мы все приличные люди, чего уж там. И все мы знаем, что потребительство захлестнуло в человеке человеческое. Но не все, однако же, устали от маркетингового насилия настолько, чтобы уйти из общества, хлопнуть дверью. Я устала и хлопнула. А знаете, почему я смогла встать и хлопнуть? У меня никогда не было Айфона, я меняю телефоны по мере их порчи. У меня пятый за всю жизнь телефон и третий ноутбук, хотя связью и интернетом я начала пользоваться куда раньше большинства россиян. У меня нет кредитов, нет машины, которая требовала бы постоянного вливания денег. Именно это позволило мне и моим коллегам уйти из редакции, когда нас заставляли кричать на весь мир: «Крым наш!» Мы все ушли — у нас не было сильного стоп-фактора, который вынудил бы остаться и подличать. Из нашей команды, покинувшей пишущую редакцию «Эха Петербурга», удержалась только одна девочка — внештатник. У нее были кредиты, она не смогла уйти.
Вот в таком обществе я не хочу жить. Не хочу ходить рядом с людьми, которые страну продадут, доведут до войны — и все ради того, чтобы и дальше платить по кредиту за Макбук (в случае с бывшей коллегой это был iPad). Я от такого общества, которое, прямо скажем, никакое не общество, а масса, устала. Утомилась.
Конечно, меня утомили не смс от Билайна и не посты Adme (кстати, там очень примитивный провинциальный юмор). Даже не падкость сограждан на дешевую дрянь и готовность работать ради этой дряни до упада. Меня утомили сограждане в целом. Знаете, самое значительное событие путинских лет — это вываливание на авансцену быдла и подонков. Так наша страна жила последние годы, что повсюду, от ночного киоска до кремлевских коридоров, выстроена система по выведение на передний исторический и политический план быдла. Быдло много лет поощряли, пестовали, выкармливали кредитами, отпаивали на курортах Хургады пивом… Под быдло расчищены больницы (не можешь с честными глазами принимать в час 12 больных и экономить талоны на УЗИ — пшел вон!), университеты (без почитания мракобесия не удержишься), школы (лепи с детьми подарки к Дню рождения Путина и заставляй родителей голосовать досрочно), силовые ведомства (одни вурдалаки), суды (о, Боже!)
Я не хочу видеть эти кривые рыла, развороченные хари, жирные мясистые лапы, протянутые за мздой или подачкой. Я не хочу, чтобы рыла ходили со мной по одним улицам, я не хочу, чтобы мой ребенок учился с их детьми, играл в их игры, смотрел их телевизор и усваивал уголовные нормы общежития.
Я решила жить в деревне. По-настоящему. В такой деревне, где мало людей и нет деревенских. Когда появятся дети, они будут учиться дома: любому родителю, имеющему высшее, а тем более, педагогическое, образование вполне по силам учить ребенка дома плоть до конца среднего звена. Я не хочу бегать по трем работам и лишь украдкой интересоваться, чем там занят мой ребенок днем, среди детей таких же загнанных соотечественников.
Знаете, недавно в «АиФ» опубликовали данные Росстата о бедности. В России оказалось много бедных, причем — работающих бедных. Статья потрясла цивилизованное наше общество. А еще больше потрясло опубликованное в статье письмо читательницы.
«Я учительница биологии в школе, муж работает на местном стекольном заводе, — пишет в почту «АиФ» С. Карташова из Ставропольского края. — Его зарплата 17 тыс. руб. считается по местным меркам очень хорошей. Я зарабатываю со всеми надбавками 13-15 тыс. Старший сын учится в военном училище, полностью на гособеспечении. Есть дочь-школьница. Её любимая еда — сосиски, но покупаю их только раз в неделю, чаще не могу себе позволить. Мужа мясом балую раз в месяц, сразу после получки. А так основная еда — картошка и макароны. Своего огорода нет, если кто угостит овощами-фруктами, мы рады, а на рынке или в супермаркете не покупаю — дорого. Недавно нашла ученика для дополнительных занятий — выплачу кредит, который брала, чтобы купить дочке мобильный телефон: у всех есть и ей хотелось. Я бы больше учеников взяла, но мало кто из родителей это может себе позволить».
Вот от такого общества я бегу. От учительниц биологии, которые набивают ребенку брюхо макаронами, лишь бы купить ему телефон. Все, точка. Я среди этих людей жить не хочу.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 472 просмотра